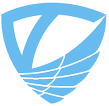События растворяются. Исчезают, как только их время проходит. Даже в памяти не найдется место для них. Спустя некоторое время мы не будем помнить событие, останутся лишь осколки воспоминаний о нём. Вместо целостного повествования, мы пересказываем себе обрывки того, что успели запомнить, а после память пережевывает и эти жалкие, мелкие кусочки, которые постепенно превращаются в кашу, однородную серую массу. После у нас остаётся только ассоциации с определённым годом жизни.
Быть может память уже со мной играет в кошки-мышки и мне хочется романтизировать прошлое, которое осталось, пусть и не так далеко, но позади. Даже эти, вроде бы незабываемые (в негативном значении) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года превращаются в воспоминания — серую кашу из минувших дней. Среди перемолотых обрывков прошлой жизни острыми зубьями торчат отдельные воспоминания, которые всплывают в сознании совершенно неожиданно, без всякой хронологии прорезают серые будни военного болота, которое успело отдалиться, а на его место пришли не менее тягучие псевдомирные деньки.
Случается так, что бесконтрольно перед глазами яркой вспышкой разрываются картинки, где тебе приходилось в черном инкассаторском бронежилете, в советской трофейной каске и огромных — потому что достались на халяву — штанах костюма горки мчаться по обстреливаемой улице, нестись сломя голову в надежде, что следующий свист мины пронесётся мимо, встрянет в стену пустого разбитого дома или просто застрянет в асфальте, высунув наружу хвостовик.
А потом цвет на этих картинках сгорает и остаётся только черно-белое нечто, напоминающее о том, что было несколько лет назад.
Обгорелые флэшбеки.

Май 2016
Выныриваю из своего сознания куда-то наружу. Дыхание учащённое. Хватаюсь за реальность. Первые мгновения сложно ориентироваться в пространстве. Где я? Куда я? Почему куда-то еду? Неизвестность заканчивается быстро, когда за окном мелькает стела прифронтового города Ясиноватая. Между водительским и пассажирским сидениями лежат веточки сирени. Они скрывают холодное дуло ручного пулемёта Калашникова. Символичный антивоенный кадр. На переднем сидении сидит Катя. На голову накинут капюшон. Из-под него виднеются темно каштановые прямые волосы. Она о чем-то думает, но никогда об этом не расскажет. По крайней мере, мне. Мы знакомы с ней несколько часов. Нас свёл случай, как и многих на этой войне. Я вижу её отражение в стекле, но лицо остаётся скрытым камуфляжной тканью.
Когда вблизи боевых действий встречаешь симпатичную мордашку, а не огрубевшее ощетинившееся мужское лицо с беззубой улыбкой, складывается ощущение фальши. Что она здесь забыла? В «войнушку» захотела поиграть? Гуманитарку развозит? Материнский инстинкт угомонить не может. Семья ей нужна, тогда успокоится и не будет этой ерундой заниматься. Пожалуй, есть в этих мыслях доля правды. Возможно, даже львиная, но кто об этом задумывается, когда тебе 20 лет и мир делится исключительно на черное и белое. В особенности, когда эмоции накалены. Никто же до конца не верит в то, что идеалистами манипулировать куда проще, чем прагматиками.
Катя молчит. В сознании перебирает ещё свежими воспоминаниями, которым всего час от роду. Старушка сидит на дряхлой кровати со скрипучими ржавыми пружинами. Ещё год-два и койка перейдёт новому владельцу, который до конца так и не станет владеть ею. Хозяин рухляди — дом престарелых, который на время сдаёт в аренду перевалочный пункт перед отправкой куда-то далеко. Нынешнюю постоялицу считают сумасшедшей. Сотрудники ей не верят. Она выдумывает, что ничего не помнит, считают окружающие. Бабулька кричит, что не осталось ничего и никого, кто мог бы помнить о ней что-либо. Ей веришь. Сложно не поверить человеку, который воет словно зверь, при виде других людей. Вокруг чужаки. Люди в белых халатах — добрые и искренние женщины — терпеливо переживают спектакль забвения ежедневно. Они вынуждены принимать участие в дне сурка бедной пенсионерки. Каждый раз им приходится доставать из-под ржавых пружин и сального матраса затёртые и влажные черно-белые и цветные снимки — единственный маяк в море забытья. Катя помогала сотрудникам дома престарелых достать фотографии, пока старушка причитала. Мы приехали поздравить её с Днём Победы, о котором она возможно уже давным-давно позабыла. Если себя она не помнит, о какой Победе может идти речь. Женщина жадно впитывает коробочку, которая оказывается дороже любого сокровища. Она пялится в снимки, не может узнать людей на них. Постепенно оживают образы. Витя, Люба, Колька. Всех их больше нет. По крайней мере, рядом. Они куда-то исчезли, их размыло, как и воспоминания о них.
Неловко. Хотелось вырваться наружу, не смотреть на это больше. Кате было сложнее. Хотя она пыталась держаться и не показывать виду. Она сильная. Не такое видела за эти года. А может быть и нет. Кто знает, какой ад происходит у соседа по сидению в бусике, когда тот пустыми глазами уставился на мелькающие за окном безликие кусты.

Апрель 2016
А перед этим мы шарахались по прифронтовой зоне возле шахты Трудовская. Не с Катей. С фотографом из Астрахани. Я в роли сопровождающего. Должен играть роль уверенного и бесстрашного жителя горячей точки. Такой же, как те парни в фильмах, которые смотрел задолго до.
Голливудские мастера умеют создавать образы. На экране — небритый житель Сараево с сигаретой в зубах, в промокшей от пота рубашке цвета хаки, с уставшим взглядом указывает поворот, за которым нужно будет мчаться на всех парах. ведь там стреляют снайперы. Обычное дело в горячей точке. Он устал от войны, но привык к её будням. Вымотан, но уверенно отыгрывает свою второстепенную роль в сюжете, где главный герой— американский журналист, который наверняка способен сделать хоть маленькое, но чудо — снимет сюжет, способный убедить мировое сообщество в том, что и так было известно — «война — это зло». А местный житель станет составляющей частью сюжета, ему суждено погибнуть, чтобы сделать историю трагичнее, вызвать у зрителя эмоцию, сострадание.
Неужели теперь я превратился в того, кто покажет, куда не стоит поворачивать, потому что за той «зелёнкой» скрыто минное поле, где даже опытные саперы оставляют конечности. Мы идём вдоль зарослей. Повсюду натыканы напоминающие таблички. Совсем рядом — интернат, где живут и учатся дети. Футбольное поле граничит с минным. На аут лучше сильно не выбивать, иначе о мяче придётся забыть. Домой не едут даже на выходные, там ещё хуже — «красная зона», зона активных боестолкновений. Что там делают их родители, так и остается для меня загадкой.
Но какой из меня экскурсовод, если я здесь впервые? Снова самообман. Романтизировать на свой счёт я люблю. С нами есть сопровождение. Пусть он покажет российскому фотографу, что ему снимать, а что не стоит. Россиянин клацает затвором камеры. Клац. Снимок таблички «минное поле» — готов. Щёлк. Однорукий пенсионер. Бывший шахтёр, которому конечность оторвало в забое, спрашивает, какого черта мы тут ошиваемся.
Хороший вопрос.
Какого черта камерамэнов несёт туда, где погибают люди?

Июль 2016
Невероятно. Не попало ни единого снаряда. Бывает же такое. А сюда же тоже падали ракеты от реактивных систем залпового огня. И почему я так хорошо запомнил расшифровку «РСЗО»? Хотя ничего удивительного. Нужно разбираться в том, что может тебя разорвать на куски. Вопрос выживания и только.
Огромный храм в центре Горловки, в нескольких сотнях метров от которого горели заживо местные жители, остался без единого пореза от осколков. Купола отражают лучи июльского палящего солнца. Звезда в зените, палит беспощадно. Горловчане изнемогают. Устали от жары не меньше, чем от боевых действий. Приходят сюда и молятся. Кто не сомневается в своей вере, делают это уверенно, кого терзают сомнения — задаются вопросами: «А зачем всё это? Разве молитвы помогают?»
Когда-то помогали. Когда надежда покидала; когда снаряды уничтожали соседнюю квартиру, за которой попросили присмотреть соседи; когда приходилось ютиться в потенциальной братской могиле — подвале жилого дома с люди, чьи имена ещё вчера не знал; когда на улицах лежали обуглившиеся тела старушек, торговавших ещё час назад овощами со своих огородов рядом с очередным магазином известной сети супермаркетов. Тогда казалось, что молитвы возвращали надежду. В них она теплилась.
А потом и это куда-то ушло.

Август 2016
Месяц спустя. Это происходит уже в центре Донецка. Легкие прожигает горячий воздух. Витает пепел. Кашляю. Лицо прячу за тонкой тканью своей толстовки. Раскалённый асфальт залит водой. Пылающее здание уставлено лестницами припаркованных пожарных автомобилей. По металлическим прутьям торопливо топают ботинки спасателей. На крыше силуэты в сером дыму в черных касках и огнестойких костюмах в руках держат пожарные рукава, тушат беспощадное пламя, пожирающее человеческое архитектурное творение, больше походившее на бессмысленную кирпичную коробку с красивой пластиковой облицовкой.

Я стою в сотне метрах от пожара. Смотрю на пылающее здание. В суматохе пытаюсь найти удачный кадр. Мне удаётся поймать мгновение не запланировано.
Ритмичные удары подошвы ботинок о металлические прутья лестницы. Разгоряченный пожарный спускается с тлеющей крыши. Он окутан не дымом. Это жар от его тела. На асфальте пожарный рукав самовольно и беспорядочно разбрасывает потоки воды. Спасатель срывает с себя каску, опускается на колени, кладёт её возле себя, кланяется источнику прохлады, набирает полные ладони воды и обливает себя. Капли, стекая по волосам, на асфальте соединяются с общим потоком жидкости.
— Осталось немного. Скоро всё закончится, — произнёс спасатель.